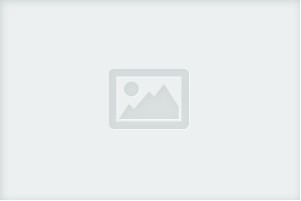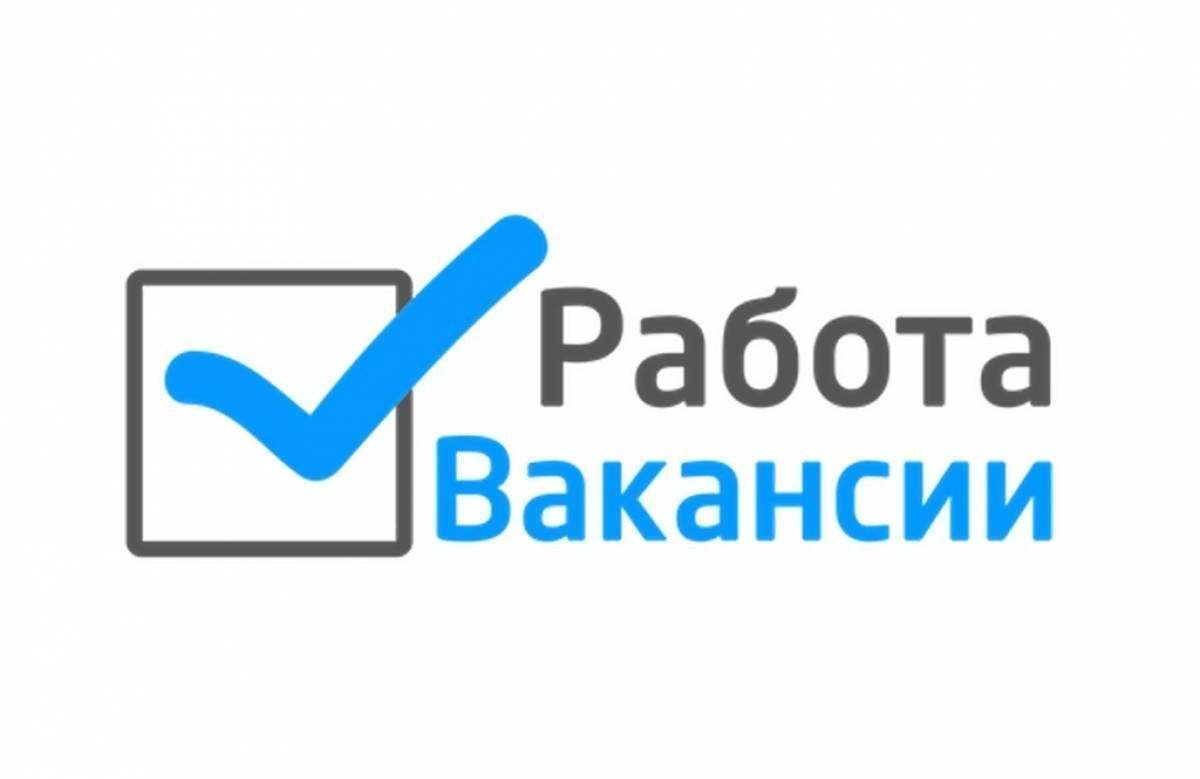Кызылординские вести
издается с 1 января 1930 года- : :
- +7 (7242) 40 - 11 - 10
- kizvesti@mail.ru
Бахтияр Бабаджанов: “Нам, мусульманам, надо привыкнуть к тому, что в пределах одной религии мы разнообразны, и в этом нашем разнообразии должна быть наша сила”
Бахтияр Мираимович Бабаджанов, доктор исторических наук, заведующий отделом Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни Академии Наук Республики Узбекистан, Ташкент (Узбекистан). Господин Б.М. Бабаджанов является крупнейшим специалистом в своей области.
- Здравствуйте, Бахтияр Мираимович! Недавно в Казахстане была издана книга, написанная Вами и Вашим коллегой. Книга посвящена суфизму. Не могли бы рассказать нам подробнее об этом издании?
– Вы, наверное, имеете в виду наше издание текстов "Фатава” (богословско-правовых заключений), с легитимацией (то есть с шариатским обоснованием) зикра "джахр” и некоторых других ритуалов, которые практиковали группы "джахрийа” в нашем регионе. Она является продолжением серии научных изданий, которые мы с коллегами в Узбекистане и Казахстане обнаружили в фондах Института востоковедения АН РУз. Первым был издан рукописный источник начала XIX века "Бустан ул-мухиббин” (написан на арабском и тюркском языках). Ее автор Худайдад ибн Таш-Мухаммад ал-Бухари, тоже посвятивший свое сочинение шариатской легитимации зикра "джахр”, является одним из выдающихся богословов своего времени. Книга издана в Туркестане (в 2006), но, к сожалению, тираж оказался ограниченным, а качество плохим.
И вот теперь вторая книга в этой серии – это сборник "Фатава” (фетв), составленных примерно в то же время. Она издана в издательстве "Дайк-пресс” (Алматы). Качество книги соответствует высоким мировым стандартам.
- Существует мнение, что кочевники Центральной Азии в основном придерживались духовной цепи Йасавийа, а оседлые народы – Накшбандийа. Так ли это? И в чем состоит особенность братства Йасавийа?
– И об этом тоже есть некоторые ремарки в упомянутой книге. Если коротко, то я бы не стал так категорично придавать "этнические” черты братствам Центральной Азии и более поздним их ответвлениям. Ситуация была гораздо сложнее и разнообразнее. Например, Йасавийа в XV-XVI веках распространила свое влияние на центральные районы Мавараннахра (Трансоксианы), в том числе и в среде оседлых жителей. Некоторые исследователи даже говорят о йасавийских братствах в средневековой Индии. Что касается нашего региона, то в среде йасавийских лидеров появились таджикоговорящие шайхи, например, знаменитый Шайх Худайдад Мийанкали. Некоторые из них даже писали хикматы не только на тюрк-ском, но и на таджикском языке, которые сохранились и до наших дней. Точно так же и примерно в то же время Накшбандийские шайхи проникли в земли Туркистана (вплоть до Саурана) и среди их муридов (послушников) было немало кочевых казахов. Напомню также, что оба братства распространились и на территории современной Турции, на Балканах, арабских странах и так далее, еще раз доказав, что для суфизма нет этнических и политических границ.
Хотя, справедливости ради, надо сказать, что некоторые авторитетные исследователи суфизма в ЦА говорят о преимущественном (но не абсолютном) этническом составе этих братств. И у них в этом смысле есть свои серьезные аргументы. При этом, признавая "интернациональный” характер Накшбандийа, о Йасавийа специалисты говорят как о преимущественно тюркском братстве. Но повторяю, с известными оговорками.
- Как известно, религия составляет основу культуры любого народа. В этом плане какой вклад внес суфизм в развитие культуры казахов и других народов Центральной Азии?
- И об этом есть некоторые замечания во введении названной книги. И, кажется, прежде я уже кое-что говорил на этот счет в одном из своих интервью. Начну с того, что, на мой взгляд, основу культуры народа (по крайней мере, в современном понимании) составляет не только религия. И, с другой стороны, функция религии ведь не ограничивается формированием культуры. Это гораздо более сложный и многообразный феномен. Но вот если говорить об исторической перспективе, то религия (независимо от ее форм и конфессиональных направлений) действительно внесла серьезный вклад в культуру разных народов земли.
Если говорить о современных народах ЦА, то мы в этом смысле, естественно, не исключение. И здесь, кстати, не стоит ограничивать само понятие "культура”, которая, между прочим, включает такие понятия, как культура взаимоотношений людей (например, младшего и старшего поколения, поведение в гостях, на чужбине и пр.), политическая культура и традиции, культура этических норм и так далее. В этом отношении, между прочим, суфийская дидактическая литература (и сформированные под ее влиянием другие жанры народного эпоса) серьезно повлияла на формирование этических и прочих норм, создали образы национальных героев – образцов преданности народу и его моральным традициям, которые формируют нормы и ориентиры взаимоотношений в обществе, понятия о чести, совести и т.п. Я уже не говорю о таких хорошо известных направлениях нашей традиционной культуры, как музыкальная, поэтическая традиции. Все они, по мнению специалистов, так или иначе связаны с суфийскими традициями, которые, в свою очередь, сами получили некогда серьезное влияние народной культуры, охотно вбирая в себя близкие и понятные народу этические и иные образы и традиции, составляющие часть культуры народа. Или возьмите импровизации акынов, либо мистерии бахши (баксы). В письменных фиксациях их текстов мы обязательно встречаем "Хикматы” Йасави или йасавийских шайхов. Это ведь тоже примечательно.
Конечно, современные понятия о культуре и ее виды уже далеко не те, что были, скажем, век назад. И кому-то все "архаичные формы” культуры кажутся умирающей традицией, "седой архаикой” и так далее. Однако не надо забывать, что приверженцев этих культурных традиций (в самом широком смысле этого определения) до сих пор немало. А значит она имеет право на существование, как бы вновь призывая нас быть терпимее друг к другу, стараясь понять эту традицию, которой придерживались наши отцы, дедушки и бабушки, для которых она составляла смысл существования, нравственные ориентиры, удерживала общество от морального разложения, а в конечном итоге стала основой современной национальной культуры.
- Иногда можно заметить, что многие казахстанские читатели понимают под суфизмом язычество, якобы это одно и то же. К этому можно добавить критику со стороны представителей так называемого "чистого ислама”. Как исламовед прокомментируйте, пожалуйста, богословскую суть противостояния сторонников "чистого ислама” и суфизма?
– Как вы увидите из самой нашей публикации, эти обвинения и ярлыки в исламе - явление не новое, и споры вокруг легитимности суфизма (то есть о соответствии его шариату) тоже зародились вместе с суфизмом, или его ранними формами в виде аскетизма (зухд). Между прочим, это клише ("Суфизм – есть шаманство, язычество” и пр.) некогда введены некоторыми русскими колониальными исследователями. Не стану утверждать, что эти формулы были введены ими сознательно (чтобы, например, доказать "неислам-скость” национальных обычаев). Однако некоторые советские этнологи эти клише и формулы ("суфийский ритуал – шаманство”) подхватили сознательно, что, по сути, было частью атеистической пропаганды, стремящейся, естественно, оторвать народную традицию от ислама. Сознательно или нет, но такое же сравнение двух ритуалов подхватили даже некоторые ученые на Западе, повторяя эти же клише, очевидно попав под влияние тех самых непосвященных наблюдателей из русских и советских этнологов. Но таких исследователей, к счастью, немного.
Основной "аргумент” в "языческих” ярлыках, навешиваемых на суфизм, в основном, связан с видами зикра "джахр”. Между тем, напомню, что зикр "джахр” впервые зародился совершенно самостоятельно в Багдаде, где никакой шаманской традиции не было и в помине. А по каким причинам такие обвинения в адрес "джахристов” адресовались в средневековье, мы уже сказали выше. Так что современные радетели "очищения ислама” ничего нового, на мой взгляд, не придумали. Поэтому я всегда с настороженностью отношусь к таким формулам "очищения ислама”, так как (как я уже упоминал выше) чаще всего эти формулы-лозунги используются их инициаторами с совершенно прагматическими целями (устранение конкурентов, исполнение чьего-то сознательного "заказа” и пр.).
- Вы в своей книге затронули понятие "салафизм”. Не могли бы подробнее рассказать о нем? Как Вы считаете, можно ли отнести "салафизм” к "чистому исламу”, к тому же, может ли быть "салафизм” умеренным? Эти вопросы интересны тем, что в настоящее время некоторые казахстанские специалисты настойчиво предлагают форму "умеренного салафизма”. Как Вы думаете, с учетом основных постулатов доминирующей у нас богословской-правовой школы ханафизма приемлема ли данная форма в регионе?
- О салафизме мы не говорили в книге специально. Но я постараюсь ответить на Ваш вопрос. Салафизм (от арабского "Ас-салаф ас-салихун” – "Праведные предки”) в очень общем определении ориентирован на идею возврата к "первородному” исламу, когда, по мнению богословов этого направления, общине удалось воплотить предписания Корана и Пророка (мир ему!), так сказать в "чистом виде”. Салафизм явление отнюдь не новое в исламе, а самое глав-ное – неоднообразное (как собственно и формы воплощения самой религии). Салафитские идеи, так сказать, растворены в различных течениях ислама (даже в некоторых суннитских мазхабах) и в относительно "чистом” виде почти не существуют. Хотя вот египетские салафиты претендуют на то, что их течение (движение, группы, именуемые салфийа) может называться "чистым салафизмом”.
В этом относительно коротком интервью трудно передать все коллизии и сложности этой проблемы, связанной с теми неоднозначными процессами, что мы видим в исламском мире. Но основная проблема, на которой я хочу остановиться и которую выдвигают такого рода радетели "чистого ислама”, – это проблема внутреннего разнообразия ислама. Именно это разнообразие воспринимается "очистителями” (в том числе и салафитами) как главное препятствие в единении или унификации ислама.
Но основная проблема даже не в позициях салафитов. Посмотрите на исламский мир – это бесконечная череда внутриконфессиональных конфликтов, неизменно переходящих в догматические расколы и, как следствие, политические противостояния. И, наверное, естественно желание некоторых богословов устранить эти расколы, чтобы умма "не делилась”. Но история любого нового витка "очищения ислама”, его "исправления” "единения” и так далее тиражирует один и тот же сценарий и последствия: те, кто борется против мазхабов, против суфизма, против "разобщенности мусульман” и так далее, те обязательно объединяются в группы, движения, партии, умножая тем самым количество этих "партий” и усиливая сам внутренний раскол. То есть они сами стимулируют тот процесс раскола, против которого якобы борются. А созданные партии и группы, в свою очередь, опять делятся на группы, а их "умеренные”, "радикальные” и прочие крылья тоже множат раскол, что неизменно порождает политический и социальный конфликт. Вот ведь в чем проблема! Как сказал упомянутый Рамадан ал-Бути – тот, кто хочет унифицировать мазхабы, тот сам создает свой "мазхаб” или "фирка” (секту). И это действительно так, если оглянуться хотя бы на историю ислама последних ста лет. Те лидеры, кто старается выдумать новые идеи "очищения” (это и религиозно-политические партии, вроде "Братьев-мусульман” это и салафиты и прочие), по сути создают свои "секты” (фирка), отнюдь не способствуя разрешению глобальных и локальных проблем ислама, а напротив, усугубляя их.
Нам, мусульманам, надо привыкнуть к тому, что в пределах одной религии мы разнообразны, и в этом нашем разнообразии должна быть наша сила. Именно в нашем внутриконфессиональном разнообразии должно воплотиться главное достоинство ислама – его толерантность. А мы умудряемся превратить наше разнообразие в безобразие. Кто, например, будет спорить, что обычаи мусульман Малайзии и Казахстана разные? Но какой смысл их "унифицировать”, если культура и традиции этих народов разные? Неужели собственное (внутриконфес-сиональное) разнообразие должно обязательно порождать чувство разобщенности? И, кстати, в Малайзию ислам принесли суфии, к которым в стране сохраняется почтительное отношение.
Относительно предложений ваших некоторых специалистов принять в Казахстане "умеренную форму салафизма” могу сказать следующее. Для начала было бы интересно, как они понимают салафизм вообще и "умеренный салафизм”, в частности. Уверен, что внятного ответа не получить. Либо все такие попытки что-то объяснить внятными не будут. У меня впечатление, что это похоже на идеи некоторых политиков и богословов, выдвигающих похожую идею (а возможно, у вас просто их риторику скопировали).
Я хочу повторить свою мысль. Не стоит искать рецептов и клише духовности за рубежом. Это, судя по нашей истории, редко приводит к каким-то положительным результатам, в смысле сохранения стабильности и нейтрализации вызовов. Пальму в казахских степях не вырастишь (если не сделаешь для нее специальный парник). Пусть в степи растет то, что там испокон веков росло. Условно говоря, нам не стоит портить экологию собственной духовности, тоже имеющей глубокие корни и тоже подпитанной исламом и мудростью наших предков.
- В нынешней религиозной ситуации как Вы оцениваете роль Духовного управления мусульман Казахстана и стран Центральной Азии? Есть ли необходимость в изменении их работы либо в реформации их работы?
– Я не стал бы в категоричной форме говорить о работе муфтията (тем более оценивать ее), так как эта организация еще относительно молодая и обладает спецификой, которую можно назвать (в идеале) одним словом – регулятор отношений верующих с государством. И это крайне сложная функция, так как само явление не менее сложное. Если исходить из этой функции, то муфтият Казахстана еще только-только формирует свою позицию.
На мой взгляд, муфтият в своей работе и поисках оптимальных вариантов фетв должен исходить не из их "отработанных” клише в западных частях исламского мира. Муфтият в таких делах должен исходить из собственных традиций. Ведь фетва будет принята во внимание мусульманами в том случае, если она не противоречит восприятию и традициям этой среды (опять же, условно говоря, не стоит сажать пальму в степи). Между прочим, это предписание одно из главных, которые ставились и ставятся перед муфтием – то есть богословом, имеющим признанное общиной право выносить (оглашать) какие-либо решения.
Кроме того, работа муфтията должна сочетаться с выработкой ясной и долгосрочной перспективы религиозной политики внутри страны. Да, Казахстан – государство светское. Но не вырабатывать внятной и взвешенной религиозной политики страна не может. Хотя бы для того, чтобы предупредить возможные вызовы, о возможных направлениях которых мы уже написали в упомянутой книге.
Ермек САТТИБАЙУЛЫ.
***
Это интервью журналист брал на русском языке. В переводе автора интервью опубликовано на казахском языке в газете «Жас Казах», 10 (218) 13 марта2009 г. На русском языке интервью публикуется впервые.
Читать газету в PDF

Объявления
Архив
| « Апрель 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||