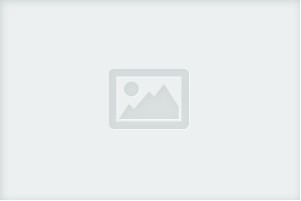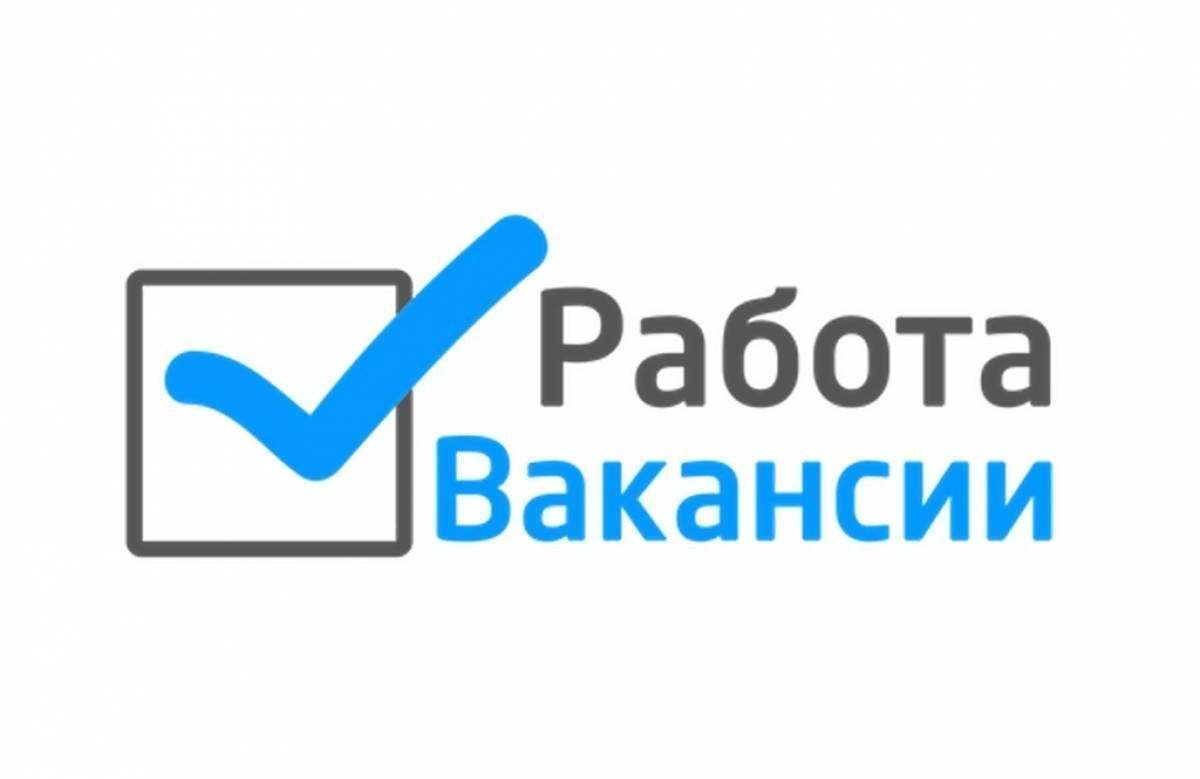Кызылординские вести
издается с 1 января 1930 года- : :
- +7 (7242) 40 - 11 - 10
- kizvesti@mail.ru
°C
Ветер: м/с
Влажность: %
Давление: мм
ДУШИ ОЧАРОВАНЬЕ
 На днях где-то прочитала, что у китайцев есть такая пословица: «Трудное детство — счастливая жизнь». С прямолинейностью формулировки, конечно, не согласна, но доля истины в ней есть. Чаще всего человек, недолюбленный, недоласканый, а то и униженный в детские годы, вырастает в этакого эгоиста, перенесшего во взрослую жизнь затаенную горечь обид. И общество пытается помогать таким маргиналам, видя в них угрозу социальному спокойствию. Но это уже послесловие к отсутствию культа семьи, того обожания детей, о котором мы с придыханием говорим, глядя, например, на англичан.
На днях где-то прочитала, что у китайцев есть такая пословица: «Трудное детство — счастливая жизнь». С прямолинейностью формулировки, конечно, не согласна, но доля истины в ней есть. Чаще всего человек, недолюбленный, недоласканый, а то и униженный в детские годы, вырастает в этакого эгоиста, перенесшего во взрослую жизнь затаенную горечь обид. И общество пытается помогать таким маргиналам, видя в них угрозу социальному спокойствию. Но это уже послесловие к отсутствию культа семьи, того обожания детей, о котором мы с придыханием говорим, глядя, например, на англичан.Но это так, к слову. Потому что, к счастью, есть судьбы сродни такой пословице. И как уважаешь такого человека, который через пелену незаслуженного невнимания и нелюбви пронес главное – всё очарование детства – с его радостями, обидами, печалями, утратами. Как мы часто говорим, закалился в трудностях и не очерствел душой.
На эти мысли меня натолкнула недавно прочитанная книга кызылординского автора Разии Исенгазиевой «Далекий туман детства». В развалах ярких детективов, коими заполонены полки книжных прилавков, эту почти брошюрованную книжечку не найдешь. А жаль. Под стать времени, мы и читателями стали стремительными: схватить бы сюжет, не пропустить популярную новинку, чтобы в случае чего на уровне поддержать разговор в обществе себе подобных. И уже как-то
забывается то наслаждение, которое получал от книжного слова, как радостно было заметить, что слог Юрия Бондарева напоминал Льва Толстого, что ты не стремился скорее перевернуть страницу, а проживал с литературным героем его жизнь. Или как в «Элегии» обожаемого Александра Сергеевича Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь»… И душа наполнялась то восторгом, то тоской, но никогда не оставалась равнодушной.
Такое щемящее чувство ностальгии по прошлому я испытала над не хитростными рассказами Разии. Хотя нет –такие они только на первый взгляд, потому что то и дело ловишь себя на мысли, как скупо, но точно и ёмко передает она настроение ребенка, подростка, женщины… Одна фраза, один нюанс, а за ним – целая история, трагедия и неповторимость бытия. Просто поразил конец рассказа «Мой отец». Отец пришел с фронта без ноги, его уже нет двенадцать лет, а в памяти дочери осталось многое, только она не помнит его походку. Не видела.
Как тонко подметила автор сос-
тояние души стареющей женщины («О грусти»). Но не той, которая ворчит и прощается с прошлым. А той, душа которой как осень, как живительный коктейль, которого глотнешь, чтобы «восхититься единственностью каждого мгновения, или удивительным, таинственно-сладостным выдохом осени, настоянным на печали, неопределенности, тревожности и времени».
Осень…Это время года, кажется, так любимо автором, что она то и дело возвращается к нему то между строк, то посвящая целое повествование. Читаешь, и на тебя так и пахнет «аромат тоскливой сладости расставания с летом» («Вкус осени»), «встревожится сухая грусть, вызывая мягкий спазм в моём «внутри», и, серебрясь запульсируют тоскливые мысли, не желающие поддаваться природной логичности» («К осени»), сожаление, что «не подарит теперь уже терпеливая осень третье бабье лето». «Нельзя застревать в прошлом, особенно осенью, жизнь еще не исчерпана и на смену осени придет белая зима, а за ней обязательно наступит весна, весна обновления…» («Осенние переживания»). И хочется продлить очарование слогом, мыслью, волнуешься и трепещешь, словно сама переживаешь беспомощность склоняющихся под ветром последних осенних цветов. И тревога: а вдруг последняя? И надежда – «светлые лучи всегда находят дорогу». Такая вот у Разии осень.
Иногда я ловила себя на мысли, что рассказы Разии, как зарисовки, как штрихи к портрету, который еще не готов, но в нём уже схвачены все основные черты, и ты уже не хочешь видеть завершенную работу, хочется самому думать и дорисовывать образ в соответствии со своими представлениями.
Маленький, всего на страничку с небольшим рассказ «Шаль», а какая глубина мысли, какая история за этой шалью, которая сначала даже не держалась на голове у сорокалетней снохи, а потом теп-лом прабабушки через эту шаль согревались ее внуки. И сейчас убирать снег во дворе без этой шали просто невозможно.
Или «Забытая незнакомка» – муфта, вещица из забытого времени, о которой сейчас знают только по фильмам на дореволюционные сюжеты. Сколько тепла, восторга вызывают воспоминания об этой вещи, которая словно сама становится рассказчиком о былом. Когда жизнь была более размеренная, а муфта прикасалась к рукам, которым от нее передавалось тепло и комфорт. Но прошло время муфт, тонких вуалей, элегантных галош с углублениями для каблуков. «Ушла соразмерная благородность красоты».
Читаю и не могу отделаться от мысли: как же объединяет людей время! Рассказ «Дом» о том, как побывала автор в селе, где выросла и хотела вновь увидеть родной дом, с которым связано столько детских воспоминаний. Но, стоя на пустой площади, «слышала только парный стук костылей отца, ходившего по комнатам уже не существующего дома».
Вот также и я, приехав в командировку в село, где прожила первые десять лет своей жизни, поняла, что не смогу возвратиться, если не побываю в своем родном доме. Была ранняя весна и такой разлив, что в сером половодье большие и маленькие строения казались игрушечными корабликами. К счастью, мой дом был цел. Но какой же он был крошечный, хотя в детстве казался вполне себе большим и крыша у него была прямая, под будущий шифер, а не углом, как у большинства землянок. Хозяева любезно пригласили, а я рассказала, как мы жили в этом доме с мамой, а во время освоения целины к нам еще подселили семью из Украины – четыре человека. А комната в доме была одна, условно разделенная на две половины узенькой печкой-голландкой. Но ведь жили! И ни ссор, ни обид. А у моих детей своего дома уже не было, только квартира. И не будет у них такой светлой тоски по родному дому. Жаль.
Сборник Разии Исенгазиевой – это можно сказать поэма о любви, хотя как о таковой почти нет прямых повествований. Но любовью пронизана ее память детства о рано ушедшей маме, о непростой судьбе отца, о сестре-покровительнице, не на много старше её самой, о добрых соседях, свекрови и всех, с кем сводила её судьба. Читая рассказ «Герань», где свекровь автора с началом лета, живя в многоквартирном доме, распахивала свои двери и занавешивала их тонким тюлем, объясняя это тем, что «так воздуха больше, да и ближе…», ощущаешь ностальгию по тем временам, когда двери не запирались, все друг друга знали и доверяли, а соседи были родней родни. И хоть свекровь не объясняла, что это такое –«да и ближе…», каждый понимал и чувствовал посвоему. Как нам нужна сегодня такая близость! Но – другие времена, другие нравы.
Для меня, чиновника с большим стажем, до сих пор непонятны разговоры о поиске национальной идеи. Что тут искать и выискивать, когда и так все ясно: национальной идеей может быть только патриотизм. И не какой-то там «Ура!», а чувство глубокой любви к малой родине, к своему дому,
своей улице, ко всему, что тебя окружает. Любви и желания, чтобы здесь, где я живу, было чем гордиться.
В книге Разии, на всех 95 страницах нет ни одного слова «патриотизм». Но какой же глубокой любовью пронизаны ее строки о родном городе, об окружающей степи, о связи эпох, воплощенных в архитектурном памятнике в форме кобыза в честь Коркыт-ата –
легендарного тюркского поэта-песенника и композитора IХ века. Где еще в мире услышишь мелодию ветра, рождаемую каменными струнами? Не любить эту землю нельзя! И дай Бог нам всем сделать для нее хоть чуточку хорошего, что останется потомкам.
Нет, не вписывается имя Разии Исенгазиевой в перечень популярных и модных донцовых, устиновых или поляковых. И не потому, что тираж ее книги не соответствует этому криминальному чтиву. А потому, что это чтение для неторопливых и, я бы сказала, избранных. Каждая страница словно наполнена мелодичными звуками, извлекаемыми тонкими пальцами скрипача. А скрипка, даже в самой веселой мелодии, всегда немного грустит. На то она и скрипка, чтобы мы не черствели, не забывали о своей душе.
Татьяна ДАНЬШИНА.
г. Кызылорда.
г. Кызылорда.
Читать газету в PDF

Объявления
28 сентябрь 2020 г.
2 439
0
25 сентябрь 2020 г.
2 631
0
22 сентябрь 2020 г.
2 838
0
Архив
| « Июнь 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||