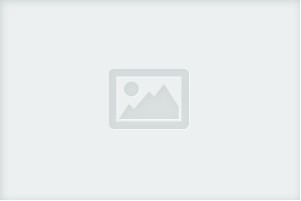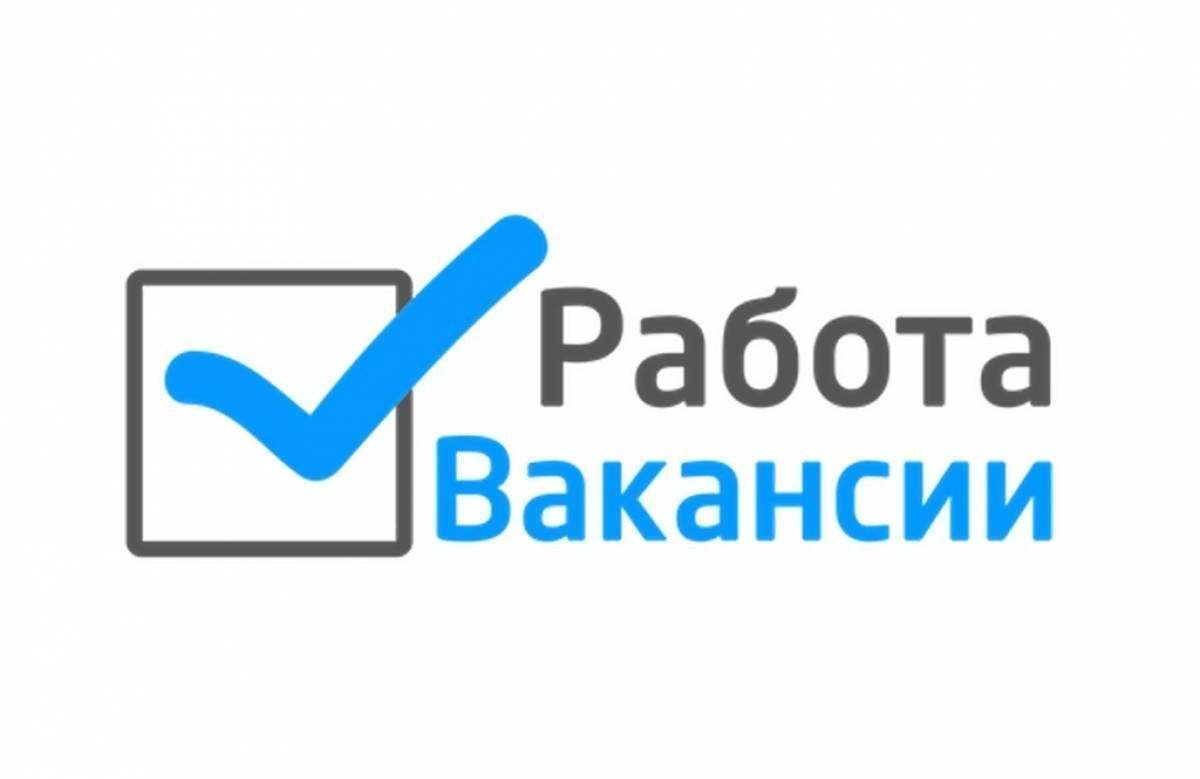Кызылординские вести
издается с 1 января 1930 года- : :
- +7 (7242) 40 - 11 - 10
- kizvesti@mail.ru
°C
Ветер: м/с
Влажность: %
Давление: мм
СМЕРТЬ, ДАЮЩАЯ ЖИЗНЬ
Игорь ТИТЕНОК
 Тему этой беседы предложил директор Кызылординского областного медицинского центра Сабит Пазылов. Для меня она оказалась неожиданной и даже немного шокирующей. Думаю, у читателя тоже возникнет схожее чувство, потому что говорить сегодня мы будем о донорстве, применительно к которому мы договорились с доктором применять в нашем разговоре не официальный, а менее пугающий и нейтральный термин – посмертное донорство.
Тему этой беседы предложил директор Кызылординского областного медицинского центра Сабит Пазылов. Для меня она оказалась неожиданной и даже немного шокирующей. Думаю, у читателя тоже возникнет схожее чувство, потому что говорить сегодня мы будем о донорстве, применительно к которому мы договорились с доктором применять в нашем разговоре не официальный, а менее пугающий и нейтральный термин – посмертное донорство.
– Нашему медицинскому центру всегда зеленый свет на страницах нашей газеты. Вы открывали новые направления в областной медицине, делали уникальные операции, устанавливали и осваивали суперсовременное оборудование, и всегда на эти события приглашали нас, а мы с радостью откликались. В этой привычной схеме Ваше предложение поговорить о посмертном донорстве, согласитесь, неожиданно. Что подвигло Вас высказаться по этой теме перед широкой читательской аудиторией?
– Не хочу, чтобы Вы сочли мои слова слишком пафосными, но причина для публичных выступлений у врача всегда одна – забота о здоровье своих сограждан. Хотя то, о чем мы сегодня говорим, прямо касается смерти, но все-таки главное здесь – здоровье, спасенные жизни.
Наш центр входит в перечень донорских клиник страны. Это говорит о том, что наша техническая оснащенность, квалификация врачей позволяет нам встроиться в единую трансплантологическую систему Казахстана. Она у нас, по признанию международных экспертов, на очень высоком уровне. Мы все знаем грандиозные планы нашего
Президента Нурсултана Назарбаева о вхождении Казахстана в число тридцати самых развитых стран планеты. По многим отраслям медицины в этом направлении ведется большая работа, а в трансплантологии мы уже в числе тридцати стран, добившихся в этом заметных успехов. Конечно, для врачей нашего центра значимо, что мы – часть трансплантологической системы страны, но из-за менталитета, недопонимания, предвзятого отношения кызылординцев мы как донорская клиника, увы, бездействуем.
Четверо кызылординцев живут с почками, которые пересажены им в результате посмертного донорства. Практически все донорские клиники Казахстана, а они есть в каждой области, участвуют в этом общегосударственном деле, а у нас в прошлом году было два случая, когда мы могли бы помочь спасти до десяти граждан Казахстана, которые находятся в списке ожидающих пересадки почки, печени, сердца, поджелудочной железы и, возможно, других органов. Однако родственники потенциальных посмертных доноров не дали согласия. Это их право по нашему казахстанскому закону, регулирующему трансплантологию. У нас в стране для посмертного донорства необходимо заявленное желание гражданина, сделанное им заранее или согласие близких родственников (родители, дети, братья, сестры).
Мы обязаны спросить и действуем только в случае оформленного согласия родственников. В свое время, когда у нас презумпция согласия была отвергнута как законодательская форма, то подразумевалось, что эффективная просветительская работа приведет к тому, что наши граждане будут активно прижизненно выражать свое согласие на посмертное донорство, а близкие родственники в своем решении будут руководствоваться тем, что они могут спасти чьи-то жизни. Но в нашей практике мы видим, что просветительская работа в этом плане пока результата не дала.
– Может, родственники, которые отказались от посмертного донорства, основывались на своих религиозных убеждениях?
– Я врач и не хочу перед вашими читателями выступать в роли толкователя Корана или Библии. Но есть высказывания на эту тему авторитетных свещенослужителей исламских и христианских, которые, пусть порой с оговорками, но не отрицают право на существование посмертного донорства. Это доказывает и тот факт, что трансплантология существует и развивается не только в светских государствах, но и в таких, как, например Иран, Саудовская Аравия. Каждый из нас знает, что в религиях, о которых мы говорим, жертвенность во имя жизни других только приближает человека к раю в загробной жизни, если он в нее верит.
– Не мотивируется ли отказ близких родственников тем, что они видят еще дышащее тело, знают, что у него бьется сердце и потому не могут поверить в то, что их близкий умер, хотя врачи уже констатировали смерть мозга? Не возникают ли в такой ситуации подозрения, навеянные сюжетами детективов и ужастиков про «черную» трансплантологию, что возможен умысел «пустить» близкого на органы корысти ради?
– Врачи мало рассказывают широкой публике и горюющим родственникам о процедуре регистрации смерти, и потому на обывательском уровне об этом больше слухов и домыслов. На самом деле эта процедура отработана так, что все происходящее исключает вариативное толкование. Сначала смерть мозга констатирует анестезиолог-реаниматолог, потом это все подтверждается инструментальными исследованиями. Электроэнцефалография позволяет на мониторе даже неспециалисту увидеть, что электрическая активность мозга прекратилась. При необходимости делается и томография. В любом случае в этот процесс вовлечены несколько специалистов. Я не знаю такого случая, когда диагноз «смерть мозга» оказался бы ошибочным.
Что касается умысла врачей продать почку, другой орган в такой ситуации или трансплантировать ее кому-нибудь «своему» – это полный бред. Как я уже сказал, трансплантология у нас – это единая общеказахстанская система. Даже в тот момент, когда получено согласие на посмертное донорство, в любой из донорских клиник страны и в центре никто не знает, кому будут пересажены донорские органы. В списке ожидания тысячи казахстанцев, вызов на операцию получает тот, у кого показатели под донорский орган окажутся более подходящими, если выражаться совсем просто. В этом деле решает не только группа крови, есть еще много параметров, которые должны совпадать. Например, желательно, чтобы донор и тот, кто будет жить с его органом, были одной весовой категории. Поэтому на практике получается, что выбор ожидающего делает фактически компьютер, в котором хранится соответствующая база данных.
Трансплантацию органов у нас проводят, в основном, столичные клиники, оснащенные по последнему слову медицинский техники, где есть врачи с богатой практикой в этой сфере. Кстати, мне довелось поработать рядом с одним из таких видных хирургов-трансплантологов Болатбеком Баймахановым в Национальном научном центре хирургии имени А. Н. Сызганова. Академик Российской академии медицинских наук, профессор, доктор наук, он буквально творит чудеса. Считаю его своим учителем, еще и в силу этого стараюсь, чтобы наш центр на практике оправдывал то доверие, которое нам оказали, включив в список донорских клиник Казахстана.
– Вы упомянули о списке казахстанцев, которые ожидают пересадку тех или иных органов. В нем, конечно же, есть и жители нашей области?
– Разумеется, такие больные у нас есть и, к сожалению, статистика по ним быстро меняется. Если больных, которым требуется пересадка почки, благодаря аппаратам «искусственная почка» мы можем достаточно долго продержать в очереди на пересадку органа, то с печенью, сердцем такой возможности нет. Сейчас 51 житель нашей области нуждается в пересадке почки, 21 – печени, 4 – сердца.
Тут хочу сделать некоторые пояснения. У нас есть два вида донорства. Об одном мы сегодня говорим, а другое – родственное. Об этом писала ваша газета. В Сырдарьинском районе сын отдал матери часть печени, в Кызылорде сестра не пожалела почки для брата. Сегодня в области живут и здравствуют пятьдесят кызылординцев с почками, пересаженными от родственников, четверо остались жить потому, что самые близкие отдали им часть своей печени. Как видите, с родственной трансплантацией у нас дела обстоят неплохо, что характеризует наши семейные отношения как прочные и, не побоюсь сказать, высоконравственные. Самоотверженные поступки наших земляков свидетельствуют о том, что у нас очень высока готовность прийти на помощь ближнему. Думаю, если мы расширим для себя понятие ближнего до соотечественника, то, может быть, в горькие минуты мы сможем принять решение, которое спасет сразу несколько жизней, пусть и незнакомых, но наших людей.
Возвращаясь к списку кызылординцев, ожидающих пересадки органов, хочу сказать, что для них вариантов для родственного донорства нет. Не потому, что их близкие не любят. Донорство имеет ограничения по возрасту (до 60-65 лет), по заболеваниям и, разумеется, несовершеннолетние в этом участвовать не могут. Значит, у них одна надежда, что тот вид донорства, о котором мы сегодня говорим, в нашей стране будет существовать на уровне самых развитых стран планеты.
– В жизни бывает так, что молодой человек или средних лет всецело разделяет то, что Вы говорите, но при этом знает, что случись с ним что-то, его родственники в силу возраста или других причин не дадут согласия на посмертное донорство, хотя сам он этого бы хотел.
– Надо обратиться к нам в центр (ОМЦ), можно в мою приемную и мы оформим его согласие, разумеется, с искренними пожеланиями, чтобы он дожил до глубокой, но бодрой старости.
Прекрасно понимаю, что, выслушав меня, не все бросятся звонить в приемную ОМЦ, многие, прочитав эти строки, решат по-другому действовать в трагической ситуации, но все-таки прошу вас, дорогие кызылординцы, подумайте: если смерть пришла в ваш дом, а у вас есть возможность не пустить ее в другие дома, может, согласитесь на то, чтобы сохранить жизнь другим?
 Тему этой беседы предложил директор Кызылординского областного медицинского центра Сабит Пазылов. Для меня она оказалась неожиданной и даже немного шокирующей. Думаю, у читателя тоже возникнет схожее чувство, потому что говорить сегодня мы будем о донорстве, применительно к которому мы договорились с доктором применять в нашем разговоре не официальный, а менее пугающий и нейтральный термин – посмертное донорство.
Тему этой беседы предложил директор Кызылординского областного медицинского центра Сабит Пазылов. Для меня она оказалась неожиданной и даже немного шокирующей. Думаю, у читателя тоже возникнет схожее чувство, потому что говорить сегодня мы будем о донорстве, применительно к которому мы договорились с доктором применять в нашем разговоре не официальный, а менее пугающий и нейтральный термин – посмертное донорство.– Нашему медицинскому центру всегда зеленый свет на страницах нашей газеты. Вы открывали новые направления в областной медицине, делали уникальные операции, устанавливали и осваивали суперсовременное оборудование, и всегда на эти события приглашали нас, а мы с радостью откликались. В этой привычной схеме Ваше предложение поговорить о посмертном донорстве, согласитесь, неожиданно. Что подвигло Вас высказаться по этой теме перед широкой читательской аудиторией?
– Не хочу, чтобы Вы сочли мои слова слишком пафосными, но причина для публичных выступлений у врача всегда одна – забота о здоровье своих сограждан. Хотя то, о чем мы сегодня говорим, прямо касается смерти, но все-таки главное здесь – здоровье, спасенные жизни.
Наш центр входит в перечень донорских клиник страны. Это говорит о том, что наша техническая оснащенность, квалификация врачей позволяет нам встроиться в единую трансплантологическую систему Казахстана. Она у нас, по признанию международных экспертов, на очень высоком уровне. Мы все знаем грандиозные планы нашего
Президента Нурсултана Назарбаева о вхождении Казахстана в число тридцати самых развитых стран планеты. По многим отраслям медицины в этом направлении ведется большая работа, а в трансплантологии мы уже в числе тридцати стран, добившихся в этом заметных успехов. Конечно, для врачей нашего центра значимо, что мы – часть трансплантологической системы страны, но из-за менталитета, недопонимания, предвзятого отношения кызылординцев мы как донорская клиника, увы, бездействуем.
Четверо кызылординцев живут с почками, которые пересажены им в результате посмертного донорства. Практически все донорские клиники Казахстана, а они есть в каждой области, участвуют в этом общегосударственном деле, а у нас в прошлом году было два случая, когда мы могли бы помочь спасти до десяти граждан Казахстана, которые находятся в списке ожидающих пересадки почки, печени, сердца, поджелудочной железы и, возможно, других органов. Однако родственники потенциальных посмертных доноров не дали согласия. Это их право по нашему казахстанскому закону, регулирующему трансплантологию. У нас в стране для посмертного донорства необходимо заявленное желание гражданина, сделанное им заранее или согласие близких родственников (родители, дети, братья, сестры).
Мы обязаны спросить и действуем только в случае оформленного согласия родственников. В свое время, когда у нас презумпция согласия была отвергнута как законодательская форма, то подразумевалось, что эффективная просветительская работа приведет к тому, что наши граждане будут активно прижизненно выражать свое согласие на посмертное донорство, а близкие родственники в своем решении будут руководствоваться тем, что они могут спасти чьи-то жизни. Но в нашей практике мы видим, что просветительская работа в этом плане пока результата не дала.
– Может, родственники, которые отказались от посмертного донорства, основывались на своих религиозных убеждениях?
– Я врач и не хочу перед вашими читателями выступать в роли толкователя Корана или Библии. Но есть высказывания на эту тему авторитетных свещенослужителей исламских и христианских, которые, пусть порой с оговорками, но не отрицают право на существование посмертного донорства. Это доказывает и тот факт, что трансплантология существует и развивается не только в светских государствах, но и в таких, как, например Иран, Саудовская Аравия. Каждый из нас знает, что в религиях, о которых мы говорим, жертвенность во имя жизни других только приближает человека к раю в загробной жизни, если он в нее верит.
– Не мотивируется ли отказ близких родственников тем, что они видят еще дышащее тело, знают, что у него бьется сердце и потому не могут поверить в то, что их близкий умер, хотя врачи уже констатировали смерть мозга? Не возникают ли в такой ситуации подозрения, навеянные сюжетами детективов и ужастиков про «черную» трансплантологию, что возможен умысел «пустить» близкого на органы корысти ради?
– Врачи мало рассказывают широкой публике и горюющим родственникам о процедуре регистрации смерти, и потому на обывательском уровне об этом больше слухов и домыслов. На самом деле эта процедура отработана так, что все происходящее исключает вариативное толкование. Сначала смерть мозга констатирует анестезиолог-реаниматолог, потом это все подтверждается инструментальными исследованиями. Электроэнцефалография позволяет на мониторе даже неспециалисту увидеть, что электрическая активность мозга прекратилась. При необходимости делается и томография. В любом случае в этот процесс вовлечены несколько специалистов. Я не знаю такого случая, когда диагноз «смерть мозга» оказался бы ошибочным.
Что касается умысла врачей продать почку, другой орган в такой ситуации или трансплантировать ее кому-нибудь «своему» – это полный бред. Как я уже сказал, трансплантология у нас – это единая общеказахстанская система. Даже в тот момент, когда получено согласие на посмертное донорство, в любой из донорских клиник страны и в центре никто не знает, кому будут пересажены донорские органы. В списке ожидания тысячи казахстанцев, вызов на операцию получает тот, у кого показатели под донорский орган окажутся более подходящими, если выражаться совсем просто. В этом деле решает не только группа крови, есть еще много параметров, которые должны совпадать. Например, желательно, чтобы донор и тот, кто будет жить с его органом, были одной весовой категории. Поэтому на практике получается, что выбор ожидающего делает фактически компьютер, в котором хранится соответствующая база данных.
Трансплантацию органов у нас проводят, в основном, столичные клиники, оснащенные по последнему слову медицинский техники, где есть врачи с богатой практикой в этой сфере. Кстати, мне довелось поработать рядом с одним из таких видных хирургов-трансплантологов Болатбеком Баймахановым в Национальном научном центре хирургии имени А. Н. Сызганова. Академик Российской академии медицинских наук, профессор, доктор наук, он буквально творит чудеса. Считаю его своим учителем, еще и в силу этого стараюсь, чтобы наш центр на практике оправдывал то доверие, которое нам оказали, включив в список донорских клиник Казахстана.
– Вы упомянули о списке казахстанцев, которые ожидают пересадку тех или иных органов. В нем, конечно же, есть и жители нашей области?
– Разумеется, такие больные у нас есть и, к сожалению, статистика по ним быстро меняется. Если больных, которым требуется пересадка почки, благодаря аппаратам «искусственная почка» мы можем достаточно долго продержать в очереди на пересадку органа, то с печенью, сердцем такой возможности нет. Сейчас 51 житель нашей области нуждается в пересадке почки, 21 – печени, 4 – сердца.
Тут хочу сделать некоторые пояснения. У нас есть два вида донорства. Об одном мы сегодня говорим, а другое – родственное. Об этом писала ваша газета. В Сырдарьинском районе сын отдал матери часть печени, в Кызылорде сестра не пожалела почки для брата. Сегодня в области живут и здравствуют пятьдесят кызылординцев с почками, пересаженными от родственников, четверо остались жить потому, что самые близкие отдали им часть своей печени. Как видите, с родственной трансплантацией у нас дела обстоят неплохо, что характеризует наши семейные отношения как прочные и, не побоюсь сказать, высоконравственные. Самоотверженные поступки наших земляков свидетельствуют о том, что у нас очень высока готовность прийти на помощь ближнему. Думаю, если мы расширим для себя понятие ближнего до соотечественника, то, может быть, в горькие минуты мы сможем принять решение, которое спасет сразу несколько жизней, пусть и незнакомых, но наших людей.
Возвращаясь к списку кызылординцев, ожидающих пересадки органов, хочу сказать, что для них вариантов для родственного донорства нет. Не потому, что их близкие не любят. Донорство имеет ограничения по возрасту (до 60-65 лет), по заболеваниям и, разумеется, несовершеннолетние в этом участвовать не могут. Значит, у них одна надежда, что тот вид донорства, о котором мы сегодня говорим, в нашей стране будет существовать на уровне самых развитых стран планеты.
– В жизни бывает так, что молодой человек или средних лет всецело разделяет то, что Вы говорите, но при этом знает, что случись с ним что-то, его родственники в силу возраста или других причин не дадут согласия на посмертное донорство, хотя сам он этого бы хотел.
– Надо обратиться к нам в центр (ОМЦ), можно в мою приемную и мы оформим его согласие, разумеется, с искренними пожеланиями, чтобы он дожил до глубокой, но бодрой старости.
Прекрасно понимаю, что, выслушав меня, не все бросятся звонить в приемную ОМЦ, многие, прочитав эти строки, решат по-другому действовать в трагической ситуации, но все-таки прошу вас, дорогие кызылординцы, подумайте: если смерть пришла в ваш дом, а у вас есть возможность не пустить ее в другие дома, может, согласитесь на то, чтобы сохранить жизнь другим?
Читать газету в PDF

Объявления
28 сентябрь 2020 г.
2 437
0
25 сентябрь 2020 г.
2 629
0
22 сентябрь 2020 г.
2 837
0
Архив
| « Июнь 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||